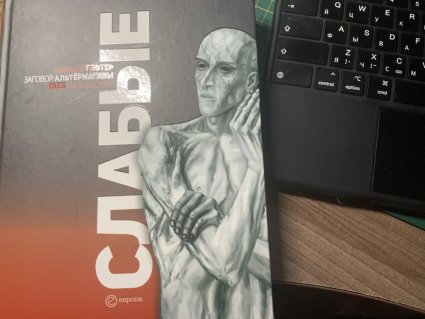Алексей Чадаев: Такое вот русское чучхе
Вернувшись в пределы Отечества, собираю и раскладываю по полочкам всё, что успел понять, пока был в стране победивших идей чучхе.
Про чучхейцев тоже кое-что понял, но это второй вопрос. Думал-то всё это время больше не про них, а про нас и наши реалии.
В общем, эссе будет «об идеалистах и циниках».
Есть несколько версий, когда праздновать «день политтехнолога». Ветераны цеха настаивают на дате рождения Никколо нашего Маккиавели — самой известной и патентованной «циничной мрази» без убеждений: ну, такая уж у него репутация. Особенно у тех, кто про «Государя» только слышал, но не читал, или читал невнимательно.
В Северную Корею я поехал почти сразу после своего дня рождения, а это время, когда оглядываешься назад и думаешь о пройденном пути. Вот я этим и занимался. Вспоминая себя московским подростком 90-х, чья бурная политическая жизнь началась с опережением графика — за несколько лет до формального совершеннолетия, на баррикадах у Белого Дома в 1993-м. А потом, спустя всего четыре года, продолжилась в том же самом Белом Доме, уже отмытом от копоти и крови, в роли сотрудника у тех, против кого мы тогда стояли — и проиграли.
То, что я вообще там оказался в неполные 19 лет — это цепь маловероятных случайностей. Факт в том, что к тому моменту я уже несколько лет читал «Завтра» и «Лимонку» (на последней было даже моё фото на одной из обложек с митинга «День русского народа»), ходил на разные оппозиционные митинги и всех этих «гайдарочубайсов» ненавидел лютой ненавистью, воспитанной колонками Проханова и Лимонова. К слову, с Прохановым я встретился сейчас в Пхеньяне, и мы с ним долго говорили про это всё.
Меня, впрочем, взяли в 97-м к Немцову на сугубо техническую работу — на современном языке это примерно «администратор сайта». Сайта ещё никакого не было, интернет вообще был тогда в новинку и в нём мало кто что-то понимал, сайт Немцова вообще был первым в Рунете персональным сайтом госчиновника такого уровня. Собственно, я его тогда и придумывал на уровне структуры, а техническую реализацию осуществлял ФЭП Павловского, у которого с Немцовым был абонентский контракт на пиар-обслуживание. До 97-го я зарабатывал на жизнь, собирая из комплектующих компьютеры, настраивая на них софт и обучая тётенек из бухгалтерий тому, где находится кнопка «эни кей», и поэтому владел соответствующими сакральными знаниями. А про политические взгляды мои никто из работодателей, разумеется, не спрашивал — им было неважно.
А вот мне было важно. Когда пришло предложение пойти работать к Немцову, главный вопрос, который я себе задавал — блин, это ж враги, как можно туда? Деньги вообще не были фактором — айтишник (даже самоучка) в те времена был всегда востребован и при куске хлеба, да и платили «реформаторы» более чем скромно. Но вот возможность получить опыт, посмотреть своими глазами на Систему вблизи, увидеть то, как «они» управляют Россией — это был ключевой аргумент. Мой основной движок по жизни — любопытство, это и сейчас так. А в том, что брать знания о мире надо не из школы или вуза, а из жизни, уже никаких сомнений не было.
Но самым большим открытием тогда для меня стали не Немцов с Чубайсом, и не внутренняя кухня АП-Правительство-Дума. Самым большим открытием и потрясением стал ФЭП и «политтехнологии» — то, что такое вообще возможно и существует. Я очень хорошо помню день первого знакомства с Павловским и Гельманом, которые пришли знакомиться с «командой клиента»: ощущение было, как будто это такие ожившие бесы из «Вия», а то и из Достоевского. А потом вслед пришли их сотрудники — совсем тоже молодые тогда ребята, ненамного старше меня самого. И по-свойски объяснили мне, что они коммерческая структура, которая работает с клиентом за деньги; клиент может быть любым и из любой части политического спектра, а поэтому никаких собственных политических взглядов и убеждений у таких, как они, нет и не должно быть никогда.
Помню, как всё моё нутро вздыбилось против идеи, что можно, оказывается, профессионально заниматься политикой и при этом не иметь вообще! никаких!! убеждений!!! А моё альтер эго мне и отвечало: а ты, дружище, на себя-то в зеркало посмотри — вот у тебя, предположим, убеждения есть, а на кого ты работаешь-то? Всё, что я мог ответить — а я, в общем, не столько работаю, сколько учусь. Так себе ответ, если честно.
Спустя многие годы оказалось, что и у этих ребяток на самом-то деле в глубине их сервисной позиции таились те ещё робеспьеры и теруани. Я про это писал подробно в «Крабатовой мельнице» в 2008-м, уже когда уходил из ФЭПа навсегда. К тому моменту я сильно по-другому стал смотреть и на Павловского, и на «политтехнологии». С Павловским я прошёл несколько стадий — от открытой войны до своего рода «ученичества» в том же ФЭПе, и до сих пор в моём архиве лежат десятки часов расшифровок наших с ним разговоров об истории, философии и политике. Из которых я по большому счёту понял только одно — вблизи не был он никаким «демиургом» или там «мефистофелем», а был обычным советским интеллигентом из поколения моих родителей, которых (всё поколение) в 91-м кинули, как кутят, в воду, и вот они там плавали, кто как мог и умел, попутно пытаясь понять, где они вообще. И, да, в итоге как-то научились барахтаться, расплёскивая тучи брызг, но по большому счёту так и не нашли себя в этом новом мире — не случайно самая последняя из написанных Павловским книжек (она у меня сейчас перед глазами) называется «Слабые».
О «политтехнологиях» — другой разговор.
На уровне простой схемы. Есть Власть. Её прочность и дееспособность определяется таким ключевым фактором, как Легитимность. Таковая бывает разной — сакральной (от Бога), силовой (по праву сильного), демократической (по результатам выборов) и т.д. В демократической модели, на уровне принципа, один человек — один голос. Но ещё есть Деньги. У одних людей (меньшинства) их много, у других (большинства) их мало. Интересы меньшинства и большинства — всегда разные, чаще всего прямо друг другу противоположные. Политтехнологии, в пределе — набор инструментов и механизмов по превращению Денег во Власть, путём ослабления или преодоления интересов большинства (без денег) в пользу интересов меньшинства (с деньгами). На марксистском языке — они суть инструмент классового господства имущих над неимущими, при формально сохраняющемся правовом равенстве тех и других. То же самое, как и само «государство» у Ленина. Всё остальное — технические детали, разговоры об «эффективности» — как получить больше голосов или пунктов рейтинга на вложенный рубль.
В этом смысле ФЭПовские мальчики и девочки из 97-го, когда объясняли мне, как жизнь устроена, сказали мне правду — только не всю. У них на самом деле и тогда было и есть политическое кредо, только формулируемое не на языке идей и убеждений, а на языке интересов и ценностей. Они — за тех, у кого Деньги; потому что пока таковые вообще есть — у них, как у политтехнологов, есть не просто «работа», но и кое-что более важное: привилегированная «социальная роль», «место под солнцем». Это очень ярко проявилось в нулевые, когда в конфликте Денег с Властью они почти все оказались на стороне Денег (и в результате почти все сейчас стали «иноагентами»). Но Власть тогда поломала Деньги об коленку, и против «лома» так и не нашлось ни одного сколь-нибудь действенного политтехнологического «приёма». Последней надеждой Эффективных Менеджеров стала самая топовая из «политтехнологий» своего времени — «технология цветных революций»: но у нас, в отличие, к примеру, от небратьев, и она почему-то не сработала. Хотя, конечно, Навальный (плоть от плоти «политтехнологической тусовки» нулевых, начинавший ещё падаваном у Марины Литвинович в штабе СПС) был в самом деле всю дорогу чудо как технологичен.
У меня было не так. Я никак не мог согласиться с идеей, что Деньги дают их обладателю какое-то более приоритетное право учить других жизни, не говоря уж о претензиях на Власть. Помню свою тогдашнюю ещё эмоцию от книжки Ходорковского и Невзлина «Человек с рублём», где ровно эта идея и проповедовалась: люди, умеющие зарабатывать много денег, более Эффективны, чем все остальные, и именно поэтому они должны рулить всем — государством, экономикой, обществом, наукой, культурой и т.д. Эмоция была такая: а с какого хрена? Кто вы вообще такие? «Если ты такой богатый — покажи свои мозги»: Михаилу Прохорову много лет спустя, уже будучи сотрудником АП, я сказал это даже и в лицо.
Но ведь, если быть последовательным — это значит, что, отрицая претензию Денег на Власть, тем самым надо и «политтехнологии» как отрасль похоронить за плинтусом. Прямо на уровне принципа: нет никаких «чёрных» и «белых» политтехнологий (типа одни нарушают закон, другие нет) — само то, что кто-то берётся за контрактные деньги управлять или корректировать волю избирателей в чью-нибудь пользу (неважно, каким именно способом), уже «харам». Совсем другое дело, если у тебя есть собственные убеждения, и ты осознанно идёшь убеждать других людей в своей правде, в том, во что в первую очередь веришь сам — но тогда ты и никакой не «политтехнолог»; ты, собственно говоря, политик. Даже если прямо сейчас никуда не избираешься.
Кстати, именно поэтому я недавно отказался спорить с Минченко о Сталине. Я не вижу никакого смысла спорить о политике с людьми из «цеха» — как минимум до тех пор, пока они не представят убедительные доказательства тому, что не отрабатывают в очередной раз чей-нибудь «заказ», а говорят (хотя бы в моменте) сугубо от своего имени. Уж лучше тогда, честное слово, поспорить в очередной раз с «борцами за русское дело» о национализме и «новиопах» — про этих, во всяком случае, нет никаких сомнений, что им никто не платил и никогда не заплатит: для меня, между прочим, именно этот факт делает их, какими бы слабыми они ни были, куда более достойными оппонентами, чем именитые мозгомойщики от «политтехнологий». Единственное, чтоб приучились наконец говорить от себя и за себя, а не сразу за весь русский народ-богоносец, как это у них водится.
Так вот. Собственно, про цинизм с реализмом. Мысль, очень остро осознанная именно в ходе поездки в Пхеньян и тех самых разговоров с Прохановым. Главное, что возмущало меня ещё тогда, в 90-е, в тогдашних «политтехнологах» — это воспетое Пелевиным в лучших его произведениях той поры разделение на «лохов» и на «реальных людей» — тех, кто таки понял, «как всё работает», и сумел конвертировать это понимание в комфортный и привилегированный статус для себя, да ещё и любит думать о себе как об «элите». Я никогда сам не считал и сейчас не считаю себя никакой «элитой», а если и думать про «лучших людей» и зачем они вообще нужны (если нужны)… наверное, это те, кто гарантированно не сбежит тогда, когда жареный петух в очередной раз захочет простереть-распростереть над отечеством чёрные крылья. У кого есть собственные основания и причины стоять до конца. А всякие «привилегированные», «допущенные», «ресурсные» и т.п. это, в сущности, те же «лохи», причём худшие из них — потому что повезло выиграть в лотерею, а они о себе думают, что это случилось потому, что они такие офигенные.
Дураки и дороги — это не «две беды» России. Это собственно, сама Россия и есть. Кто-то знает и понимает больше, кто-то меньше, но нет никаких «реальных людей», как нет и «простых»: я, во всяком случае, не знаю ни одного. Даже в моём деревенском детстве в Касторной не встречал ни одного «простого», все сложные, каждый на свой манер.
«Опираться на собственные силы» — имеется в виду: говорить от себя и за себя. Такое вот русское чучхе.
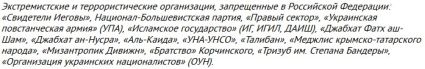
Похожие статьи:
11 марта 2023, Суббота
Андрей Медведев: О чем мечтал Никита в свой день рождения? Последний день рождения
26 октября 2022, Среда
Владлен Татарский: Исцелить людей на Украине возможно только вернувшись в ту точку, когда русский захотел стать украинцем
07 октября 2023, Суббота
Алексей Чадаев: Несколько выводов
12 декабря 2023, Вторник
Алексей Чадаев: Учебник менеджмента, глава «о пользе и вреде контроля»
10 июля 2022, Воскресенье
Владлен Татарский: "Не обманывайтесь!"