«Раз они снова посадили президента в Кремль — значит, он им обязан»
Политолог Екатерина Шульман: президентские выборы ведут к опасной ситуации.
Через год с небольшим, в марте 2018 года, — срок очередных выборов президента. Политические круги и общество - кто осознанно, кто подспудно, - готовятся к ним. Вырисовывается драматургия предвыборных перипетий. Главный герой шекспировской драмы — Путин — испытывает давление со всех сторон: снаружи, снизу, наискосок. Что он предпримет, на кого обопрется, кому вручит «черную метку», что будет расхлебывать потом? О будущей кампании Znak.com рассказала политолог Екатерина Шульман.
«Не стоит ждать от экономической ситуации радикальных последствий»
— В Резервном фонде осталось меньше триллиона рублей, в стране 4 миллиона безработных. Мало-мальские доходы по-прежнему зависят от цены на нефть, которую правительство России не контролирует. По прогнозам ООН, экономика России вырастет в этом году лишь на 1%. На ваш взгляд, Владимир Владимирович понимает всю ненадежность положения и решится проводить какие-нибудь реформы? Или до президентских выборов точно никаких изменений происходить не будет, а после них и подавно?
— Не так важно, что в голове у отдельного человека, даже если он лидер целой страны. Гораздо важнее, что может и что не может делать система. Ситуация сегодня такова. В течение последних 15 лет в экономике России происходил рост реальных располагаемых доходов граждан (была пауза в росте в 2008-2009 годах, но снижения не было). Но начиная с осени 2014 года идет падение, которое выражается и в снижении доходов бюджета, и в снижении реальных располагаемых доходов населения. Если верить данным Минфина, то к концу 2017 года Резервный фонд должен быть исчерпан. С другой стороны, тот же Минфин сейчас говорит нам, что если цены на нефть будут держаться выше 50 долларов за баррель, то, может быть, мы потихоньку начнем восполнять потери Резервного фонда.
Екатерина Шульман: «Самыe опасныe точки — моногорода. Там всегда есть потенциал к социальным взрывам. Но и с ними госмашина мало-помалу научилась справляться»
Фото: Сергей Черных/РИА Новости
На самом деле адаптивность нашей экономической системы высока. Это не ригидная советская плановая система. Сегодня демпфером экономики является, в том числе, так называемая «серая зона». Росстат говорит, что около 30% оборота находится вне официальной статистики и зоны видимости налоговой системы. Надо понимать, что это не какие-то криминальные деньги, это частная предпринимательская активность людей, которая не регистрируется. Сюда же можно отнести всякого рода «гаражную» самодеятельность. Это и создает некую «подушку безопасности» для людей, которые могут быть официально неработающими или формально-занятыми — на производствах с сокращенной рабочей неделей или неоплачиваемыми отпусками.
У нас существует негласный договор между государством, работниками и работодателями о том, что мы обходимся без массовых увольнений. То есть предприятия скорее пойдут на сокращение рабочей недели или рабочего дня, на неоплачиваемые отпуска и так далее, нежели на сокращение рабочих мест. Это важно с психологической точки зрения. Полностью безработный человек ощущает большой стресс. Даже если человек находится в неоплачиваемом отпуске, это все равно дает ему надежду, он не чувствует себя изгоем общества. Самыми опасными точками в этой ситуации являются моногорода, где жизнь концентрируется вокруг одного предприятия и мало источников альтернативной занятости. Там всегда есть потенциал к социальным взрывам по образцу возмущений жителей Пикалево. Но и с ними госмашина мало-помалу научилась справляться сочетанием методов кнута и пряника — кого-то подкормить, кого-то репрессировать, кого-то показательно уволить, что-то пообещать.
Таким образом, не стоит ждать именно от экономической ситуации радикальных последствий для прочности системы. Ситуация плоха не тем, что грозит нам массовым голодом или товарным дефицитом. А тем, что постепенно закрывает нам перспективы роста. Все последние годы мы росли ниже, чем и мировая экономика, и другие развивающиеся страны. И, похоже, такая ситуация закрепляется. Можно жить и в таком состоянии. Но ведь хочется развиваться, по крайней мере, какой-то части нашего общества.
«В реформах особой необходимости нет. Можно еще много лет ковылять при ценах на нефть в районе 50 долларов за баррель»
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Теперь о том, как замедление роста экономики стыкуется с грядущими выборами президента. Здесь прямой связи нет. Есть ряд непопулярных, но необходимых мер. Прежде всего это касается пенсионной системы, которую государству все сложнее поддерживать. Но если посмотреть на опросы россиян, то больше всего их волнуют цены на продукты, тарифы ЖКХ и медицина — то есть социальные вопросы (а не, например, внешнеполитические). Поэтому всякие реформы, типа повышения пенсионного возраста (которое неизбежно, исходя из нашей демографической ситуации), логичнее проводить после выборов, чем до. В целом идти на выборы с программой реформ — это, скорее, западный стиль ведения избирательной кампании. У нас чаще всего играют на ностальгических сантиментах и страхах перед будущим: посмотрите, как хорошо мы жили раньше, дальше будет только хуже, поэтому давайте держаться за стабильность. Нелогично, но убедительно. Так что проводить какие-то реформы сейчас особой необходимости нет. Еще много лет можно ковылять при ценах на нефть в районе 50 долларов за баррель и особо не беспокоиться.
— Еще один явно нарастающий конфликт – Путин и элиты. Она, элита, не такая уж управляемая, об этом говорят хотя бы выходки Петра Толстого и Михаила Леонтьева. Она ненасытна: Следственный комитет арестовал имущество Улюкаева на полмиллиарда рублей. Она погрязла в разборках – не прекращаются войны силовых ведомств, «силовиков» и «либералов», разных кланов. Если экономика просядет, элиты еще больше обнаглеют в глазах населения. Что делать Путину с такой элитой?
— Давайте не будем преувеличивать реальные возможности верховной власти. Хорошо говорить про ручное управление или определяющую роль лидера (важно, с какой стороны вы смотрите), но на самом деле чем выше находится человек в иерархии, тем больше он связан ее условиями, а не наоборот. Лидер, конечно, много чего может. Но он не может заставить систему не быть собой. Да, арестовать министра система может. А вот изменить укоренившиеся коррупционные практики не может. И реформы проводить она не может. Причем как либерального толка, так и клонящиеся к радикальному огосударствлению экономики. Для нее это будет означать откусывание частей тела у самой себя.
На вопрос журналистов о происхождении «мигалки» Игорь Иванович молвил: «Не могу. Не обязан. Не буду». Изречение, достойное, чтобы высечь
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Например, у нас много разговоров о реформе контрольно-надзорных функций. Но контролеры и надзиратели у нас — часть системы, их нельзя никуда деть. Сегодня автократ не может схватить всех «стрельцов» и повесить перед кремлевской стеной. И силовиков, и контролирующие органы, которые ходят с десятью проверками за год, — всех их нужно кормить. Что может верховная власть? Посылать сигналы, проводить единичные демонстративные акции, поддерживать баланс между борющимися кланами, так чтобы ни один из них не укрепился чересчур. Дело трудное, но власть пока справляется. Основная цель — поддерживать состояние войны всех против всех и одновременно не давать слишком бурно кипеть этому котелку.
«Основной вид политического бизнеса региональных элит — это торговля угрозами»
— Следующий уровень конфликтов — центр и регионы. На последнем съезде «Единой России» Медведев призвал регионы зарабатывать деньги самостоятельно. А перед этим президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с резкой критикой межбюджетных отношений. На Гайдаровском форуме к нему присоединились еще несколько губернаторов. Будет хуже — таких станет больше.
— Действительно, последние 2,5 года, по мере того, как денег в стране становится все меньше и меньше, происходит нарастание скрытых противоречий из-за распределения бюджетных средств между центром и регионами. Вся наша система федерального бюджетирования была выстроена под прорву денег, которую мы зарабатывали на нефти в «нулевые» годы: забираем все деньги из территорий, потом раздаем, кому сколько считаем нужным. Но как только доходы от продажи углеводородов снизились, проблемы этой системы тут же обнажились. Борьба за бюджетный пирог между центром и регионами уже идет. Кто-то это делает открыто, выражая публичное недовольство, кто-то кулуарно. Самым настойчивым федеральный центр уступает. Других, наоборот, поджимает. Уже сократилось финансирование Крыма и Севастополя. Потому что от них больше запросов, нежели отдачи. Да и угрожать центру им особо нечем.
«Центр будет торговаться и идти на уступки, но только тем, кто сможет реально на него воздействовать. Самым настойчивым федеральный центр уступает. Других, наоборот, поджимает»
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Почему возмущается Татарстан, понятно: это регион-донор. Татарстан возмущался вообще всегда, не только сейчас. Они как получили суверенитет в 90-е, так с тех пор никуда и никому его не отдавали. Если помните, когда мы решили поругаться с Турцией и прервали с ней всякие торговые отношения, то Татарстан встал и сказал, что у него много контрактов с Турцией и он ничего прерывать не будет. Они неожиданно вспомнили, что, согласно их Конституции, они свою внешнеторговую политику определяют самостоятельно.
В новых реалиях центр будет торговаться и идти на уступки, но только тем, кто сможет реально на него воздействовать. Основной вид политического бизнеса региональных элит — это торговля угрозами. Чем больше запугаешь центр, тем больше получишь денег: «Если нам не заплатишь — получишь террористов из ИГИЛ или солдат НАТО», или развал России, или что там в этом сезоне модно.
Что касается самостоятельности регионов, о которой говорил Медведев, то пока это только заявления. Настоящим ответом на новые реалии могло бы стать усиление местного самоуправления и самостоятельности городов. Но наша госмашина боится городского населения. Вся наша электоральная система выстроена так, чтобы максимально репрессировать жителей городов. Например, избирательные округа на выборах в Госдуму нарезаны по принципу «лепестков», когда каждый избирательный округ включает в себя и часть города, и часть сельской местности — чтобы растворить голоса городского населения в сельском. Ни одного чисто городского округа, кроме как в Москве и Петербурге. Я уже не говорю о политике отмены прямых выборов мэров и замены их сити-менеджерами, которая ведется с середины «нулевых» годов. Это целенаправленная антиурбанистическая политика.
«Сложился серьезный перекос между количеством практикующих православие внутри власти и в обществе. У нас секулярное общество, в то же время во власти достаточно людей, которые относятся к православию серьезно»
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
— Наконец, опустимся внутрь общества. Оно постоянно бурлит, январский пример — столкновения за Исаакиевский собор. Как поступать Путину в этих нарастающих конфликтах, в том числе по поводу клерикализации, – оставаться над схваткой, сильнее сталкивать лбами, вставать на чью-то сторону, разгонять?
— То, что вы описали как нарастание конфликта, я называю публичной дискуссией по общественно значимым вопросам. Это очень важный политический процесс, в нем общество вырабатывает новые нормы. Люди разговаривают и пытаются для себя определить, что нормально, а что нет. Пример — скандал в 57-й школе. В результате его сформировались определенные нормы, как действовать в подобных случаях ученикам, родителям, администрации и медиа. Сейчас аналогичный скандал еще в одной школе — «Лига школ», и уже гораздо меньше криков «они все врут», «такого не бывает» и «конец света, что же делать». Более-менее понятно, что делать. И с каждым новым случаем подобные ситуации будут восприниматься и перерабатываться все грамотнее, и это сделает нашу жизнь безопаснее и лучше.
Теперь про клерикализацию. Проблема в том, что политическое влияние РПЦ непропорционально ее влиянию на общество. У нас сложился серьезный перекос между количеством практикующих православных (или считающих себя таковыми) внутри власти и в обществе. По опросам больше 80% считают себя православными, при этом число посещающих церкви варьируется в районе 4-5%. То есть у нас секулярное общество. Это наследие не только советской власти, но и XX века в целом. В то же время во власти есть достаточное количество людей, которые относятся к православию серьезно и которые связаны с имущественными, финансовыми и административными интересами РПЦ. При этом по традиции, заложенной Петром I, у нас церковь — это государственный департамент. Ее влияние измеряется близостью к государственным структурам, а не властью над душами паствы. В результате церковь полагает, что она может вторгаться в общественно-политические дела, а общество это раздражает.
«По традиции, заложенной Петром I, у нас церковь — это государственный департамент. Поэтому она полагает, что может вторгаться в общественно-политические дела»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Это и попытка ввести в школах уроки православия; и священники, гоняющие на мерседесах, иногда даже сбивающие людей; и строительство церквей там, где они не нужны. У вас в Екатеринбурге, например, проталкивается идея строительства Храма-на-воде, а в Москве есть программа «200 храмов в шаговой доступности», которая повлекла за собой печальную историю со строительством церкви в парке Торфянка. Власть, что неудивительно, всегда занимает процерковную позицию, игнорируя мнения горожан. Так сказывается разность в степени воцерковленности правящей бюрократии и собственно социума. Здесь проходит значимая линия разрыва.
Более того, инициируется преследование тех, кто выступает против церкви. Заметно, что уголовное преследование «врагов веры» всегда носит показательно жестокий характер. Примеры — Pussy Riot, противники строительства храма в Торфянке, ваш блогер Соколовский. Когда церковь воображает себя пострадавшей стороной, она отвечает очень жестоко. Она очевидно более мстительна, чем государственные структуры, и охотно пользуется своим влиянием в правоохранительных органах и силовых структурах.
«Победу снова обеспечат национальные республики и сельские территории»
— Поговорим непосредственно о предстоящих президентских выборах. Что делать Путину с проблемой низкой явки? Ведь она ударит по легитимности. Что предпочтительнее для Путина – поднимать явку? Но тогда нужно делать картину выборов экспрессивной, допустить к ним реальных оппонентов. Или пойти на низкую явку и не будоражить общество перед выборами?
— Последние парламентские выборы обнажили эту проблему. Тогда политический менеджмент целенаправленно занимался «сушкой явки», то есть снижением явки до минимума посредством уничтожения любой реальной конкуренции, недопущения или снятия с предвыборной гонки неудобных кандидатов, замалчивания темы выборов, нераспространения агитации и пропаганды, в целом — наведения тотальной скуки. В Москве, например, вообще не так легко узнать, где твой избирательный участок. Они часто переносятся из одного место в другое, и информацию об этом трудно найти.
Говорят, обсуждаемая в Кремле формула: 70/70 — 70% голосов за «основного кандидата» при явке 70% избирателей. В ассоциации «Голос» убеждены, что это заведомая установка на фальсификации
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look /Global Look Press
В итоге оказалось, что они перестарались. Нужно было не «сушить», а «размачивать». В крупных городах, а также «русских» регионах, явка оказалась сверхнизкой. Люди предпочли вообще не участвовать в непонятных выборах. Результат был получен за счет национальных республик и регионов «электоральных аномалий» — специфических областей типа Кемеровской.
По такому сценарию можно провести и президентские выборы. Я даже думаю, что они, скорее всего, так ничего нового и не придумают и пойдут по проторенной дорожке. То есть основной результат опять будет обеспечен национальными республиками. На мой взгляд, это опасная ситуация. Опасность эта проявится не сразу, но в итоге поставит федеральный центр в зависимость от этих регионов. Раз они снова посадили президента в Кремль — значит, он им обязан.
— Еще одна дилемма – прибегнуть к адмресурсу в погоне за цифрами или поостеречься и постесняться? В январе первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обновил состав своих советников на общественных началах. Это, в основном, политтехнологи, социологи и медийщики. Означает ли это, что на грядущих президентских выборах будет меньше адмресурса и больше креатива, попыток завоевать сердца избирателя?
— Да, в каком-то смысле это попытка не допустить того провала явки, который случился на выборах депутатов Госдумы. Но, как я сказала, мне кажется, сколько бы новых сотрудников в администрации президента ни появилось, в итоге они все равно соблазнятся технологией «сушки». Иначе им придется допустить до выборов новых и способных вести конкурентную борьбу кандидатов. Не думаю, что Кремль на это решится. Скорее всего, победу снова обеспечат национальные республики и сельские территории.
«Они снова соблазнятся технологией «сушки». В противном случае им придется допустить до выборов новых и способных вести конкурентную борьбу кандидатов. Не думаю, что Кремль на это решится»
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
— Что делать Путину персонально с Навальным: пускать на выборы или нет? А может, лучше все-таки посадить?
— Навальный, конечно, повысит явку. Но вместе с тем в избирательном процессе возникнет много рисков. Потому что, когда в выборной гонке появляется человек, который использует риторику изменений, а все остальные на разные лады говорят: давайте оставим все, как есть, или вернем, как было, - то для системы это опасно. Даже если очевидно, что он не выиграет выборы. Как показывают выборы в США и Европе, люди готовы голосовать просто против истеблишмента, лишь бы ему досадить. У нас устраивать такую ситуацию опасно.
— Если будет происходить дальнейшее экономическое ухудшение, то кого назначат новым «козлом отпущения», на кого будет направлен народный гнев? Украинская тема уходит из повестки, сирийская тоже. Обвинять Запад неуместно: предстоит договариваться с Трампом.
— В условиях запроса на социальную справедливость напрашивается образ врага в лице коррумпированного чиновника. Сейчас антикоррупционная кампания не имеет особой политической направленности. Пока это просто война всех против всех, кто сильнее — тот и съел. Если мы говорим о грядущих выборах, то арест Улюкаева, судя по опросам, понравился людям, но такие истории не будешь устраивать каждый день. С одной стороны, адресация правителя к народу через голову элиты — одна из наших политических традиций. С другой, здесь таится и опасность, поскольку именно бюрократия является опорой системы, точнее — она и есть система. Но если выбирать жертв точечно и в разных сферах, то это уже не так опасно. Главное — не вызывать у элиты панику. Потому что, если от народа требуется просто пассивность и сидение у телевизора, то от элиты требуется соучастие. И терроризировать ее — значит, подвергать устойчивость системы риску.
«Даже если очевидно, что он не выиграет выборы, устраивать такую ситуацию опасно. Как показывают выборы в США и Европе, люди готовы голосовать просто против истеблишмента, лишь бы ему досадить»
Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
— В условиях экономического банкротства и нараставшей политической вольницы Михаил Горбачев побоялся применять большую силу и пускать большую кровь. Но Советский Союз приказал долго жить. С вашей точки зрения, не дрогнет ли рука Путина применить силу в решающий момент, если ситуация в обществе выйдет из-под контроля центра и возникнет угроза Майдана?
— Сомневаюсь, что сегодня у нас может быть то, что происходило в СССР или в Украине в период двух Майданов. Для нас характерны другие формы протеста, так называемые легалистские. Это протест в рамках закона и в ответ на нарушения со стороны государства. Это, кстати, показали и протесты 2011-12 года. Что стало их причиной? Фальсификации во время выборов, нарушение закона. Это и есть легалистский протест.
Что касается силового подавления, то непонятно, зачем его применять и против кого? Протесты по итогам выборов? Маловероятно, что они случатся. Возможно, могут применить силу по отношению к точечным и ситуативным протестам, как, например, протесты дальнобойщиков или жителей моногородов. Но и тут необязательно устраивать расправы, достаточно политики кнута и пряника: самых буйных просто изолируют, а других как-то задобрят. При этом обязательно принесут в жертву какого-нибудь чиновника, чтобы протестующие остались довольны.
«Для нас характерны так называемые легалистские формы протеста. Это протест в рамках закона и в ответ на нарушения со стороны государства. Это совсем не те причины, что привели к распаду СССР и Майдану»
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Евгений Сеньшин
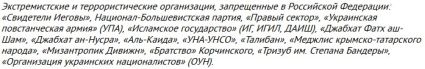
Похожие статьи:
13 ноября 2016, Воскресенье
Вокруг Кремля скучно не будет
19 мая 2018, Суббота
Борис Рожин: Венесуэла перед выборами
01 января 2018, Понедельник
Резервный фонд России перестал существовать
01 февраля 2017, Среда
Силовики готовятся к слияниям и поглощениям
20 августа 2018, Понедельник
Переданные приставам долги россиян достигли двух триллионов рублей










